➇ Купить билет
➆ Поддержать музей
➅ Слушать радио
Интерактивная квартира Ахматовой — Пуниных




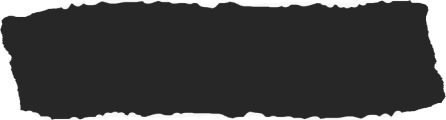
Об экспозиции
Шитье кукол было одним из увлечений Ольги Судейкиной. Обладая тонким вкусом, она создавала коллекции кукол в костюмах самых разных стилей и эпох.
Итальянский резной сундук ранее принадлежал Ольге Глебовой-Судейкиной. Ахматова называла его «сундуком флорентийской невесты». До конца жизни она хранила в нем свой архив.
«О[льгины] вещи, среди которых я так долго жила, вдруг потребовали своего места под поэтическим солнцем. Они ожили как бы на мгновение, но оставшийся от этого звук продолжал вибрировать долгие годы…»

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу
Ты сын и ужас мой.
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу
Ты сын и ужас мой.

«Самое красивое в моей комнате это клен за окном», — говорила сама Ахматова.

В 1938, расставшись с Николаем Пуниным, Анна Ахматова переселилась в эту комнату и жила в ней до отъезда в эвакуацию в сентябре 1941. Здесь она переживает один из самых тяжёлых периодов своей жизни, здесь «дежурят страх и Муза в свой черёд». В 1938 сталинский террор в стране достигает своей кульминации и вновь вторгается в жизнь Ахматовой — в марте второй раз арестован её сын. Лев Гумилёв находится под следствием во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной и в Крестах. Многие месяцы наполнены для Ахматовой хлопотами за сына и страхом за его жизнь:
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
С августа 1939 начался лагерный период в жизни матери и сына. Решением особого совещания Лев Гумилёв был этапирован в Норильский лагерь. «Август у меня всегда страшный месяц… Всю жизнь», — скажет Анна Ахматова Лидии Чуковской, помогавшей собирать тёплые вещи для сына.
Ахматова продолжает писать «Реквием», начатый в 1935. Из шёпота тюремной очереди рождалась поэма памяти невинно осужденных. Хранить рукопись «Реквиема» было опасно: правдивость этого поэтического текста превращала его в улику. Спасти «Реквием» от забвения можно было только одним путём — доверить памяти близких людей: они заучивали его наизусть, а потом листы с рукописью сжигали здесь, в этой комнате.
Под Новый, 1941, Ахматова открыла старинный сундук, оставленный ей подругой, актрисой и художницей Ольгой Глебовой-Судейкиной, уехавшей навсегда из России в 1924: «О[льгины] вещи, среди которых я так долго жила, вдруг потребовали своего места под поэтическим солнцем. Они ожили как бы на мгновение, но оставшийся от этого звук продолжал вибрировать долгие годы…»
Так, неожиданно для себя самой, Ахматова начинает писать «Поэму без героя», которая потом стала её спутником на долгие годы. Эту поэму Ахматова назовет симфонией о судьбе её поколения: «Постигло нас разное: Стравинский, Шаляпин, Павлова — слава, Нижинский — безумие, Маяковский, Есенин, Цветаева — самоубийство, Мейерхольд, Гумилёв, Пильняк — казнь, Зощенко и Мандельштам — смерть от голода на почве безумия, и т. д., и т. д.». Воспоминания о них — ещё один Реквием. Трагический маскарад «теней из 1913 года» переходит в поэме в кровавый карнавал 1930−1940-х. Первая мировая война и сталинский террор предстают катастрофами единой истории ХХ века.
В одной из поздних записей Ахматова сказала о себе: «Я — поэт 1940 года». Потом пояснила: «Принявшая опыт этих лет — страха, скуки, пустоты, смертного одиночества — в 1936 я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому… Возврата к прежней манере не может быть… 1940 — апогей. Стихи звучали непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь».
Об этой комнате сохранились разноречивые воспоминания: одни отмечают «развал и убожество», для других она была освещена «волшебным светом», наполнена красивыми вещами, оставшимися от прошлой жизни. Сегодня в мемориальной комнате собраны подлинные предметы, которые принадлежали Ахматовой. Часто они теряют своё бытовое предназначение и у самой Ахматовой обретают иной смысл: сохраняют память, отражают прямую связь со временем и с самой сутью её поэтического мира. «Вещи, они ведь как губки, впитывают в себя время и вдруг окатывают им человека с головы до ног, если он внезапно встречается с ними после долгой разлуки», — писала Лидия Чуковская. Из этих вещей тогда, в 1938—1941 годах, состояла обстановка этой комнаты. Эти предметы, от ваз и посуды до гребня и мутного зеркала, окружали её и позже, вне Фонтанного Дома. Именно их она берегла всю жизнь.
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
С августа 1939 начался лагерный период в жизни матери и сына. Решением особого совещания Лев Гумилёв был этапирован в Норильский лагерь. «Август у меня всегда страшный месяц… Всю жизнь», — скажет Анна Ахматова Лидии Чуковской, помогавшей собирать тёплые вещи для сына.
Ахматова продолжает писать «Реквием», начатый в 1935. Из шёпота тюремной очереди рождалась поэма памяти невинно осужденных. Хранить рукопись «Реквиема» было опасно: правдивость этого поэтического текста превращала его в улику. Спасти «Реквием» от забвения можно было только одним путём — доверить памяти близких людей: они заучивали его наизусть, а потом листы с рукописью сжигали здесь, в этой комнате.
Под Новый, 1941, Ахматова открыла старинный сундук, оставленный ей подругой, актрисой и художницей Ольгой Глебовой-Судейкиной, уехавшей навсегда из России в 1924: «О[льгины] вещи, среди которых я так долго жила, вдруг потребовали своего места под поэтическим солнцем. Они ожили как бы на мгновение, но оставшийся от этого звук продолжал вибрировать долгие годы…»
Так, неожиданно для себя самой, Ахматова начинает писать «Поэму без героя», которая потом стала её спутником на долгие годы. Эту поэму Ахматова назовет симфонией о судьбе её поколения: «Постигло нас разное: Стравинский, Шаляпин, Павлова — слава, Нижинский — безумие, Маяковский, Есенин, Цветаева — самоубийство, Мейерхольд, Гумилёв, Пильняк — казнь, Зощенко и Мандельштам — смерть от голода на почве безумия, и т. д., и т. д.». Воспоминания о них — ещё один Реквием. Трагический маскарад «теней из 1913 года» переходит в поэме в кровавый карнавал 1930−1940-х. Первая мировая война и сталинский террор предстают катастрофами единой истории ХХ века.
В одной из поздних записей Ахматова сказала о себе: «Я — поэт 1940 года». Потом пояснила: «Принявшая опыт этих лет — страха, скуки, пустоты, смертного одиночества — в 1936 я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому… Возврата к прежней манере не может быть… 1940 — апогей. Стихи звучали непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь».
Об этой комнате сохранились разноречивые воспоминания: одни отмечают «развал и убожество», для других она была освещена «волшебным светом», наполнена красивыми вещами, оставшимися от прошлой жизни. Сегодня в мемориальной комнате собраны подлинные предметы, которые принадлежали Ахматовой. Часто они теряют своё бытовое предназначение и у самой Ахматовой обретают иной смысл: сохраняют память, отражают прямую связь со временем и с самой сутью её поэтического мира. «Вещи, они ведь как губки, впитывают в себя время и вдруг окатывают им человека с головы до ног, если он внезапно встречается с ними после долгой разлуки», — писала Лидия Чуковская. Из этих вещей тогда, в 1938—1941 годах, состояла обстановка этой комнаты. Эти предметы, от ваз и посуды до гребня и мутного зеркала, окружали её и позже, вне Фонтанного Дома. Именно их она берегла всю жизнь.


Лев Гумилев. 1940-е. Фотография из военного билета
Ольга Глебова-Судейкина с куклой в руках, 1921 год








